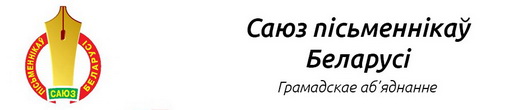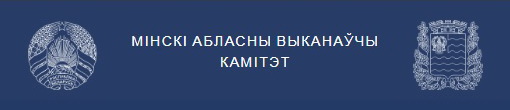Григорий СОЛОНЕЦ. “Колодцы пограничника Пасько”
Когда кому-то в селе нужно было выкопать колодец, то обращались к безотказному трудяге дядьке Ивану, колхозному скотнику, а в прошлом фронтовику-пограничнику. 22 июня 1941-го он двадцатилетним солдатом вместе с другими бойцами 9-й заставы и красноармейцами принял первый удар фашистских полчищ в Брестской крепости. Как выжил в том огненном аду, отделавшись лишь пулевым ранением в плечо, до сих пор удивляется. Правда, вспоминать о тех боях, как и о трагическом для армии и страны кровавом сорок первом, Иван Григорьевич не любит.
Но однажды, завершив свою на редкость тяжелую работу, которая обычно растягивалась на два-три дня, и выпив за столом очередную рюмку самогона за то, чтобы колодец как минимум сто лет радовал хозяина вкусной родниковой водой, Иван Григорьевич вдруг заговорил о неутолимой… жажде. Той, которую испытал в подземелье цитадели над Бугом, в те горячие июньские дни и ночи.
– Река Мухавец находилась от нас в какой-то сотне шагов, но до спасительной влаги так просто было не доползти – ни ночью, ни тем более днем. Немцы этот участок местности держали почти под постоянным обстрелом. – Иван Григорьевич достал из трофейного портсигара «беломорину» и, закурив, тихо продолжил:
– Вода как хлеб, как воздух нужна была всем, особенно раненым. Это хорошо понимали и фрицы, перекрывшие доступ к реке. Когда мой сослуживец и друг Степа Зуенок не вернулся от берега Мухавца, туда пополз я, взяв с собой несколько фляжек. Уж не знаю, повезло мне или немцы ближе к рассвету ослабили бдительность, но добрался до реки незамеченным. Опустив изможденное лицо в воду, жадно глотал ее, отдающую немного болотом, и никак не мог напиться. Быстро наполнив фляжки, понял, что если сейчас не отползу, то останусь тут навеки.
Когда луч мощного прожектора пробил темноту и скользнул по берегу, немцы открыли пулеметный огонь. Пуля попала в плечо, но в суматохе я не сразу почувствовал боль. Короче, лежать бы мне там и сейчас с теми фляжками, да на выручку откуда-то сбоку незнакомый боец подполз. Крепко обхватив, потащил к укрытию…
И тут, будто испугавшись, что наговорил лишнего, Иван Григорьевич умолк.
– Ладно, дело прошлое, к чему его вспоминать… Спасибо за ужин, пойду, а то жена, небось, заждалась.
Пожав на прощание хозяину дома руку, Иван Григорьевич вроде как наказ дал:
– Берегите воду, экономно расходуйте. Без нее нет жизни.
За свою тяжелую работу Иван Пасько с односельчан брал по-божески. Вкопать в землю одно бетонное кольцо стоило десять рублей – тех, советских. А колодезных колец набиралось где пять, а где и все десять, в зависимости от того, насколько глубоко залегала вода. Со вдов и фронтовиков деньги брал нехотя, к тому же наполовину меньше.
Эту придуманную льготу считал справедливой. Но люди, видя, с каким упорством Иван Григорьевич налегает на заступ лопаты, каких трудов стоит ему каждый кубический метр вынутого на поверхность грунта, приближающего к искомому роднику, как, наконец, задыхается на дне колодца от нехватки кислорода, редко соглашались на скидки.
– Ты, Григорьич, пахал как каторжный, и эти деньги отнюдь не дармовые, мозолистыми руками заработал. Держи, а то обидимся.
По большим церковным праздникам, вроде Пасхи или Троицы, а также в свято почитаемый Иваном Григорьевичем День Победы он принципиально не работал. И односельчане это знали. Еще по молодости, когда не шибко в голову брал религиозные обряды, копал он соседу колодец. И выпал тот день аккурат на Николая-чудотворца, о чем Пасько и не догадывался. Работа спорилась: уже к вечеру до воды добрался. Осталось поднять на поверхность
с десяток ведер песка. И то ли сосед маху дал, то ли он сам в спешке некрепко узел веревки затянул, но рухнуло вниз груженое ведро. Хорошо хоть высота оказалась небольшая, а то и убить могло. А так обошлось. Только правая рука долго ныла, ею инстинктивно защищал голову от падающего груза.
– То тебе, Иван, предупреждение от Бога, чтобы не брал грех на душу, работая в святой день, – по-своему объяснила причину случившегося верующая бабка-соседка.
С тех пор он зарекся брать в руки не только лопату, но и какой-либо другой инструмент в религиозный праздник. Но так как без дела сидеть не привык, то иногда, закрывшись в сарае, плел из лозы корзины (это занятие он считал богоугодным). Работал больше для души, чем для дополнительного заработка.
Если было лето, то шел на рыбалку: с удочкой на берегу посидеть, о жизни подумать. Был и третий вариант праздничного досуга. Прихватив в укромном месте припрятанную от жены бутылочку, ближе к обеду или вечеру заглядывал Иван Григорьевич в гости к другу Кузьме, бывшему танкисту 1-го Белорусского фронта.
Кузьма не раз в подробностях рассказывал о незабываемой встрече в конце войны с Маршалом Советского Союза Жуковым. Танковый полк готовился к наступлению, когда в его расположении неожиданно для солдат, да, видимо, и офицеров тоже, появился легендарный полководец с небольшой группой сопровождающих. Георгий Константинович был в хорошем настроении, почти сразу к танкистам подошел, с каждым за руку поздоровался. Кузьма тогда замешкался. Стою, рассказывал, и не знаю, что делать. Жуков руку для приветствия протянул, а я боюсь своей ее испачкать: весь в соляре и масле, с двигателем как раз возился. Георгий Константинович все понял, слегка улыбнулся, подбодрил:
– Ничего, мы не на параде.
И тут же строго спросил:
– Товарищ механик-водитель, танк в бою не подведет?
А где-то через месяц, было это уже в Восточной Пруссии, прославленный полководец рядовому Кузьме Захарику медаль «За отвагу» лично вручил. Разве такое забудется?
Иван Григорьевич по-хорошему завидует другу, хотя и словом не обмолвился на этот счет. Так получилось, что никого из известных военачальников на фронте ему увидеть не довелось. После Брестской крепости, откуда чудом с небольшой группой бойцов раненому удалось вырваться, долго выходил из окружения. Под Минском чуть к немцам в лапы не попали: еле ноги унесли.
Передвигаясь в основном ночью по лесам, болотам, изможденные и обессилевшие, под Смоленском наконец вышли к своим. Лейтенант-особист все не мог поверить, что они из самого Бреста пешком притопали. Несколько дней все дотошно уточнял, подробно расспрашивал о боях на границе, о том, как удалось живыми из крепости вырваться, что в пути делали. От некоторых его вопросов у Ивана холодок по спине пробегал. В конце концов проверка закончилась. Направили рядового Пасько в госпиталь, а оттуда после лечения – в формировавшийся зенитный пулеметный полк, который охранял военные аэродромы и другие важные объекты. Случалось, отражали и воздушные налеты вражеских самолетов, но это были уже не те люфтваффе, которые устроили кромешный ад на земле под Брестом, и пережитое там, в первые дни войны, нельзя было сравнить ни с чем.
На его парадном пиджаке наград негусто: две медали – «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и орден Отечественной войны, полученный уже в мирное время. С Кузьмой, конечно, не сравниться: тот Берлин на своей тридцатьчетверке брал, у Жукова воевал! Но и Иван, особенно там, под Брестом, пороху столько понюхал, что на все четыре года хватило.
Фронтовик – особое звание, в народе уважаемое. Право так называться имеют те, кто по передовой под пулями на брюхе ползал, в танке горел, из вражеского окружения выходил. Поэтому, когда перед началом торжественного собрания, посвященного Дню Победы, ведущая попросила ветеранов-односельчан занять места в президиуме, Иван Григорьевич тактично поправил ее: мол, правильнее будет фронтовики. Хотя сидеть в президиуме Пасько с молодости не любит. И только 9 Мая такую привилегию позволяет себе.
Как-то пригласили Ивана Григорьевича в школу провести урок мужества. Он к нему серьезно готовился и волновался как первоклассник. Сам погладил белую рубашку, брюки, надел пиджак с наградами. На нескольких листочках выступление набросал и… забыл его на домашнем столе. Уже перед самой школой спохватился, да некогда и неловко было за шпаргалкой возвращаться. Да и к чему она ему? Память, слава богу, еще не отказывает, цепко держит в голове молодые годы, навсегда опаленные войной.
После выступления, а оно получилось вроде бы содержательным, не сумбурным, какой-то мальчуган с последней парты громко спросил:
– А сколько немцев вы убили?
Неожиданный вопрос Ивана Григорьевича озадачил. Математикой на фронте никто не занимался, били врага как умели, как могли, каждый на своем месте. Понятно, не за ордена, звания, а за Родину, за Сталина.
А в самом деле, если задуматься, скольких фрицев он, Иван Пасько, на тот свет отправил? Одного так точно, там, в цитадели над Бугом из винтовки уложил, пока не кончились патроны. В суматохе боя, когда все стреляют, с достоверной точностью зачастую почти невозможно определить, чья именно пуля поразила врага. Да это по большому счету и неважно. А вот то, что маловато он все-таки фрицев за четыре года войны убил, факт: за что же тогда награды, почести, президиум?
Не в настроении вернулся Иван Григорьевич домой. Спрятал от глаз подальше парадный пиджак, белую рубашку сменил на более привычную военную, она же повседневная, рабочая: в ней как-то даже теплее, а может, это просто кажется. Закурил в раздумье. А ведь малец тот правильно вопрос поставил. И он, участник героической обороны Брестской крепости, вдруг растерялся, не смог конкретно ответить.
Интересно, а сколько колодцев за свою жизнь выкопал ты, Иван Григорьевич, для людей? Тоже не считал: к чему эта статистика? И тогда впервые самому интересно стало: сколько же живительных родников после него останется в родном и соседних селах? Грубо, по месяцам прикинул. В среднем в год получалось не меньше десяти. Если умножить, как минимум, на тридцать лет – набирается 300 колодцев!
Вы, наверное, сильно удивитесь, узнав, что себе за всю жизнь Иван Григорьевич колодца так и не выкопал, пользуется соседским. Говорит, все откладывал на потом, думал, что всегда успеет, а теперь уже и сил нет: годы забрали их. Ну, ничего, внук Игорь, перенявший нехитрую дедову науку, выполнит его старый долг…
Григорий СОЛОНЕЦ