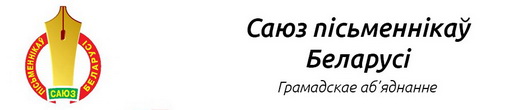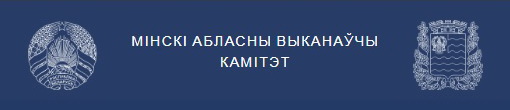Юлия АЛЕЙЧЕНКО. Я не боюсь
Почти век назад Евгений Замятин в статье «Я боюсь» рассуждал о будущем литературы следующим образом: «Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос, как на ребенка, невинность которого надо оберегать». Разумеется, лакировка действительности, чрезмерная боязнь натурализма, сознательный уход от реалий социально-политической жизни, невнимание к глубинному наполнению человеческой психики перекрывают живительные соки полнокровной литературы. Сейчас, казалось бы, имеем диаметрально противоположную ситуацию. Интерес к запретному, запредельному захлестнул умы современных литераторов, зачастую описывающих самое безобразное и животное в человеке. Так где же та тонкая грань, отделяющая «не закрывающую глаза» литературу от литературы «смотрящей не туда, куда следует»? И есть ли вообще некие ограничения в том, о чем говорить в серьезном произведении можно, а о чем нельзя (если брать во внимание, к примеру, моральный и эстетический аспекты проблемы)? Порой кажется, что именно эти вопросы являются наиболее актуальными для белорусской литературы ХХI века. Настроения смены столетий и культурных парадигм, настроения эпохи «великого ожидания нового гения» еще довольно остро ощущаются и на сегодняшний день. «В такой период очень важно не суетиться, настигая упущенное и бесполезно надеясь на счастливую случайность, а по возможности спокойно и усердно осмотреть то, что есть. Жизнь была жизнью и тысячу, и две тысячи лет назад. Эта особенность хорошо видна на историческом повороте, когда есть возможность подытожить приобретенное и заглянуть в будущее, ощутить себя между прошлым и грядущим», — так мудро подметил Михась Тычина о «поворотном времени» в литературе. И, вероятнее всего, в таком по-гениальному простом напутствии легко можно отыскать формулу успеха тех современных белорусских писателей, что, неторопливо и усердно переосмысливая опыт прошлого, облекают его в абсолютно новые, характерные для дня сегодняшнего, формы.
Так, произведения Андрея Федаренко, за которым закрепилось определение «традиционалист», неизменно вызывают фурор и резонанс в литературной среде. Потому что, существуя в рамках традиции (в лучшем смысле этого слова), автор умудряется говорить о вечных проблемах по-новому, предельно искренне, рассматривая обычные для нас вещи как бы под другим углом, как бы выделяя светом в кадре нечто особенное, важное и значительное. Заслуживает особого внимания его уникальная манера повествования, о которой Людмила Корень писала еще в далеком 1991 году: «Писатель показывает относительно автономное, асинхронное к проявлениям внешнего мира течение внутренней жизни человека, с обязательным в то же время показом этого самого объективного начала — внешней жизни». Повесть Андрея Федаренко «Дикий луг» — яркий тому пример. В первую очередь мы видим красочные, почти ощутимые зримо, тактильные бытовые образы реальности, будь то описание сельскохозяйственных работ: «…мужчины клепали косы, вставляли зубья в грабли, вырезали из сырых осин менташки, запасались новенькими зернистыми брусками» либо описание природы: «Ивы тут такие старые и толстые, что в обхвате не уступят дубам! В трещинах их шероховатой коры легко прячется ладонь <…>Вода у этого берега глубокая, темная, холодная, если опустишь руку, и чистая — ни травинки, даже ряски нет» (здесь и далее — перевод с белорусского Натальи Казаполянской). Очевидно, что автор пишет лишь о том, что близко и знакомо ему лично. Кто, если не заядлый рыбак, припомнит столько разновидностей рыболовных снастей: донка, топтуха, кобыла, крига! И это при том, что как бы невзначай, между делом, Андрей Федаренко дает своим героям предельно лаконичные и меткие характеристики: «Она сама вся как солнце» (о Махновочке), «Это местный красавчик, который по ошибке родился в крестьянском доме» (Петр), «Все у него как-то не по-взрослому, не по-хозяйски, несерьезно» (Григорий Игнатов). Чрезвычайно органично входят в канву повествования прозвища героев, которые претерпевают изменения в процессе эволюции их характеров и внешнего облика: Цветок — Носор, Махновочка — Махновка, Добрячий — Скалозуб. Однако не только контурные портреты дает персонажам автор. Тонкие нюансы внутренних переживаний исподволь входят в картину мироустройства, созданную Андреем Федаренко: «…как облачко на солнце, набегает на лицо виноватость за то, что ей повезло, и даже легкий испуг: а вдруг возьмет и случится что-нибудь, и исчезнет так внезапно свалившееся на нее счастье» (о Махновочке). Причем не боится автор обнажать и далеко не самые благородные движения человеческой души. Что и вызвало в свое время крайне негативные отзывы о повести «Дикий луг». Например, Ирина Шатыренок возмущалась по поводу авторской ремарки Андрея Федаренко: «— Ты посмотри — соли пожалела! — Махновочке, как и любой женщине, приятно было слышать, что есть хуже, чем она». Однако разве отсутствует в человеческой психологии радость чужим неудачам, подмеченная народом в выражениях типа: «У соседа корова сдохла — мелочь, а приятно»? То же касается и очень точного жизненного наблюдения Андрея Федаренко об отношении народа к счастью: «Деревня все прячет, здесь не принято показывать, что ты что-то или кого-то сильно любишь…» и «Нельзя хвалиться счастьем, оно не любит публичности, его надо прятать, даже стесняться его; счастливые должны отгородиться от остальных дубовыми дверями…» Это никак не искажение реального положения вещей, даже наоборот — свидетельство того, что писатель просто не умеет лгать. Недаром в одном из интервью Андрей Федаренко утверждал: «Лгать можно в политике, в бизнесе, в любви, в медицине, в религии, но когда будешь лгать в литературе, она, как лакмусовая бумажка, мгновенно изменит цвет и таким образом выставит твою ложь на всеобщее обозрение». Вновь комментируя нападки на Федаренко по поводу очернения образа деревни, показа лишь явлений деградации и застоя, можно справедливо отметить в повести явно позитивные проявления народной психологии, психологии наивной («в космос слетали, а Бога не нашли»), но тем не менее глубоко сопереживающей (деревенцы жалеют старуху, что заночевала в поле с больной коровой, жалеют поляка Масловского, ведь «любому человеку, наверное, стыдно жить не на родине»). Казалось бы, просто и незатейливо, приводит Андрей Федаренко своих героев к рассуждению о бессмертии души, вкладывая главные слова в уста самого младшего участника похорон Петра Цветка — мальчика Василька, которого в скором времени также ожидает трагическая смерть: «Он не в земле лежит, а висит на небе. Видит нас и все слышит». И несмотря на явную демонстрацию безжалостных жизненных законов и жестких правил человеческого общежития, «Дикий луг» — это все-таки, как парадоксально бы ни звучало, произведение о полноте жизни, ведь из песни слова не выкинешь… Произведение глубоко ностальгическое для тех, кто застал еще белорусскую деревню «задолго до Чернобыля и перестройки». Даже если судьба неизбежно опускает человека «ниже, ниже, ниже» (как повторяет в забытьи потерявший самое дорогое Кулинич), нельзя не заметить, как разливается вокруг необъятная красота, что не допускает мысли о смерти («не бывает ее! не может ее быть в этой звездной бесконечности, среди вечной гармонии, где всему свое место, где ни одна космическая пылинка не возникает и не исчезает сама по себе, без чьей-то на то воли!..»).
Своеобразным преодолением описательных установок прежнего периода в литературе, выявлением архетипического в человеческом сознании является проза еще одного талантливого писателя — Олега Ждана. Казалось бы, высказать нечто новое и оригинальное в извечном споре о природе и проявлениях гениальности крайне сложно. Были «Фауст», «Моцарт и Сальери», «Мастер и Маргарита»… Но Олег Ждан смог раскрыть одаренность с совершенно неожиданной стороны. Его повесть «Гений», с которой смогли познакомиться белорусские и русские читатели, — своеобразное исследование психологии внутренне противоречивого героя, непрестанно мучимого бременем собственной гениальности (надуманной ли, истинной ли?). «Каждого интересует одно только его одиночество», — говорила героиня рассказа Югаси Каляды, Маленькая Писательница. Сродни ей и мысли главного героя повести Олега Ждана — Тришки. Однако если у Югаси Каляды подобные рассуждения проходят довольно пунктирно, вплетаясь в короткие истории Писательницы, то экзистенциальные рассуждения Тришки составляют важную часть повествования. «Опыт человечества говорит, что спасенья нет», «Племя, семья или государство — объединения слабых. <…>Потому в конце концов и образовалось человечество и не образовался человек», «Доброта — выражение тайной корысти, слабости, неспособности противостоять другим…» — вот лишь некоторые постулаты личной идеологии Тришки-гения. Он, помнящий свои прошлые жизни и уважающий лишь собственные чувства и переживания, старается прочной стеной отгородиться от проявлений всего бытового, обыденного. Ненавидит суетливость матери — единственного человека, который что-то значит в его узком мирке, ненавидит ухаживания навязчивой влюбленной в него Леночки, ненавидит необходимость тратить время и силы на сон и прием пищи. Герой однозначно отрицательный, эгоизм, возведенный в степень, неприкрытая гордыня — скажет, возможно, опытный школьный учитель литературы, прививая детям гуманистические ценности. И будет в чем-то прав. Однако не все так просто и прозрачно в произведении Олега Ждана. Наличие двойного дна, недосказанность, если хотите, — признак авторского стиля писателя, который успешно сыграл на обогащение повести новыми смыслами, актуализацию диалога с читателем. Если вдуматься, разве за нечто злое и дурное гнобит Тришку его повседневное окружение? Отнюдь нет. Скорее за «малый рост, узкие плечи, за вечный насморк, кривые зубы, прыщи на носу, за то, что уши оттопырены больше, чем у других». Да и на фоне Тришки, желающего показать своими портретами людям, какими они являются на самом деле, просвечивают пороки общества и отдельных личностей. Как показала художественная практика главного героя, люди не желают знать правды о себе, не терпят публичного обнародования их тайных страстей, они «хотят казаться моложе, красивее, удачливее, веселее, глупее», чем есть на самом деле. А еще они живут только одним мгновением, каждодневным сомнительным удовольствием, не желая узреть путь к новой, а возможно, и вечной жизни. Даже мелкие трудовые подвиги совершаются не из-за ответственности и любви к собственному делу, а из жадности, стремления угодить вышестоящему… И это не банальная констатация разрушения основ, которая становится общим местом современной литературы, не избитый мотив усталости как образ-топос литературы «эпохи Пост». Это искренняя тревожная исповедь человека, который способен тонко подметить, что «мир уже давным-давно идет не туда и не так». Олегу Ждану удалось удивительно вжиться в роль своего бунтующего художника, посмотреть его цепким взглядом на предметы и людей. Он отмечает малейшие нюансы характера через черты лица, жесты: «с остреньким носиком ничего поделать нельзя — замерзающая синичка притаилась в окне», «куриный взгляд и наклон головы: разрешите, я постою на одной ноге, посмотрю одним глазом, лизну кончиком языка, присяду на одну ягодицу, понюхаю одной ноздрей» (о Леночке), «улыбалась, ни на кого ни обращая внимания, будто улыбка постоянно блуждала под толстой розовой кожей, как самописец, показывая благополучие и покой в организме» (об Уле). Гениальность как несчастье, «вывих» — явление, распространенное в творческой среде. Олег Ждан признался, что поступок главного героя — плевок в лицо матери, — он «списал» со своего знакомого… Богатый материал, основанный на опыте и тонком восприятии в жизни прекрасного и безобразного, позволил писателю создать предельно точную, искреннюю трагическую историю человека, ощущающегося себя гением и не имеющего силы и терпения достучаться до умов и сердец современников. Историю тысяч творцов до и после нашей эры… Писать о разрущающем себя и свое окружение герое — сложно и в то же время интересно, это словно экзамен на творческую зрелость. «Я и сам только в конце повести понял моего героя и простил его. Надеюсь, что и читатели почувствуют его определенное обаяние, или, как сейчас часто говорят, — харизму», — говорит Олег Ждан. И харизму этого так дивно умеющего передать дух эпохи писателя также сложно не оценить…
Как сложно не оценить и появление в Беларуси в последнее время ярких и запоминающихся произведений писателей-женщин. В 50-е годы прошлого столетия в Европе выпуск сборников «женской прозы» был очень удачным коммерческим продуктом. В ХХІ веке и мы имеем уже несколько подобных сборников, а также прекрасные выступления белорусских писательниц соло. Некоторых критиков и писателей смущает разделение литературы по гендерному признаку и не устраивают критерии выделения данного жанра. Однако самым правомерным, думается, будет определение женской литературы как произведений о жизни женщин в социуме, их важнейших проблемах, глубоко интимных переживаниях. Может ли написать убедительно обо всем этом мужчина? Как знать. Пока же традиционно считаем авторами «женской литературы» преимущественно женщин. Среди тех писательниц, кто завоевал неизменную популярность и узнаваемость, выделяется, несомненно, Алена Браво. Равнодушным к ее интеллектуальной, философской прозе остаться практически невозможно. Кто-то обвиняет ее в чрезмерном натурализме, предельной демонстрации проявлений телесности, слишком субъективно-отрицательном взгляде на белорусскую (и не только) реальность, кто-то восторгается ее объемными обобщениями, необычно широким писательским кругозором… Практически клинический анализ психологии собственных героинь, обращение к широкому контексту мифологии и культуры народов мира, ирония, гротеск — вот те основные черты, что помогают безошибочно узнать творчество Алены Браво. Иногда ее прозу за аллюзии, цитирование называют постмодернистской, однако сама писательница считает себя реалистом, а постмодернистские приемы — второстепенными по значению. Женщины думаюшие, сопротивляющиеся обыденности, гнету обстоятельств и в то же время эмоциональные, ранимые — героини ее повестей и рассказов «Комендантский час для ласточек», «Рай давно перенаселен», «Змея, покрытая перьями птицы солнца», «Сон пионерки» и др. Такой же выступает и Лариса Ващенко, героиня повести «Прощение», которая символично вышла в юбилейный год 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Тема проживания на чужбине, в непривычной, а временами и агрессивной обстановке не нова для писательницы. Белоруска Лариса, как и героиня повести «Комендантский час для ласточек», отправляется на родину мужа. Алена Браво и сама провела некоторое время на Кубе с семьей, не понаслышке знает о столкновении культур, образцов воспитания, характеров… Однако, вероятнее всего, не только это влияет на выбор данной темы писательницей. Обостренное чувство свободы, понимание неотъемлемого права на собственную территорию для творчества, необходимость уединения — вот что сподвигает Алену Браво на написание историй жен-иностранок, которых пытаются научить новым правилам и законам жизни, научить думать и чувствовать по-другому. «Ухоженное (вот только счастливое ли?) дерево» на поле в немецком пригороде воплощает в себе представление Ларисы об обществе, куда она волей судьбы попала. Экономия, чистота и порядок, внешнее благополучие… Однако все это «не излучает свет». Как предотвратить историческое беспамятство? Как сделать так, чтобы каждый человек черпал из коллективной памяти прошлых поколений? Подобными, совершенно не женскими, как зачастую принято считать, вопросами задается Лариса Ващенко-Крауз, белоруска в Германии. Женщина, обостренно чувствующая несовершенство окружающей действительности (что характерно практически для всех героинь Алены Браво) и расплачивающаяся за это утратой зрения (как защитной реакцией от внешнего несовершенства). Однако жизнь периодически «оголяет сетчатку», подрезает веки, и Лариса смотрит на мир, как буддистский мистик… Неудивительно, что ее переживаний искренне не понимает соотечественница Лада… Актуализируя тему отголосков прошлой войны, Алена Браво сталкивает белоруску с воевавшим в ее краях свекром-немцем. Крайне тяжело Лариса переносит «военные маневры» страдающего болезнью Альцгеймера бывшего солдата Третьего рейха. «Они наступают! Русские! Их много! Нужно спрятаться…» (здесь и далее перевод с белорусского Алены Браво), — то и дело слышится в стенах дома Крауз. И вновь же практически клиническое исследование болезни находим у категоричной к деталям Алены Браво. С помощью причудливых метафор создает писательница пугающий мир больного сознания: «…время от времени погибающие нейроны Ганса, толчками прорывающие плотную пленку беспамятства — как рыба выбрасывается на берег из отравленного водоема, выносят на поверхность те или иные небьющиеся осколки», «Гансов маразм уже цвел пышным цветом, хищно расправляя свои лепестки цвета сумерек, цвета волчьей ягоды» и т. д. Поистине, сон разума рождает чудовищ… Как и сон памяти. Ведь в немецком журнале, издаваемом бывшими «аутохтонами» СССР, в связи с датой 9 Мая упоминают лишь триумф песни Луи Армстронга и избавление от «душевного гетто» представителей нетрадиционной сексуальной ориентации… «Утратив память, неизбежно теряешь истину», — к такой простой и понятной формуле приходит Алена Браво в итоге тягостных философских исканий. Повесть «Прощение» — сложное, противоречивое и вместе с тем трогательное и искреннее произведение. Возможно, еще и потому, что писательница вложила в нее часть своей семейной истории: ее отец прожил всю жизнь под именем своего младшего брата, который задохнулся, когда бабушка, прячась с детьми в лесу, старалась накормить его грудным молоком…
«Как важно писателю иметь свое лицо, свой голос, свою боль и свой взгляд. Чтобы быть личностью», — писал Ян Скрыган в своем дневнике. С полной уверенностью можно говорить, что трое писателей, о которых шла речь выше, имеют все из перечисленного писательского «багажа». Они не разрушают основы старого, а умело производят качественные «надстройки», они пишут о вечном интересно и понятно современникам. Они на все имеют свой взгляд и бескомпромиссны перед художественной правдой. Они не боятся описывать ужасное и порочное, но стремятся к красоте и гармонии. Пока у нас так пишут, за будущее литературы я не боюсь…
http://www.neman.lim.by/wp-content/uploads/2016/03/neman_3_2016.pdf