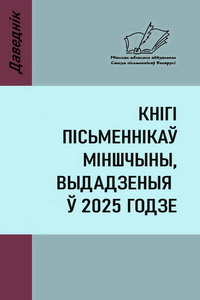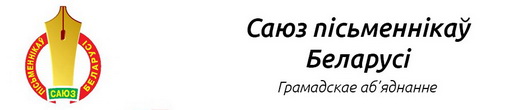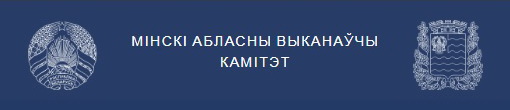Литературный марафон к 80-летию Хатыньской трагедии «Званоў перазвон». Николай СМИРНОВ. Никто не забыт и ничто не забыто!
Share the post "Литературный марафон к 80-летию Хатыньской трагедии «Званоў перазвон». Николай СМИРНОВ. Никто не забыт и ничто не забыто!"
С осени 1943 года после своего поражения в Курской битве, когда партизанское движение в Беларуси шло на подъем, германские нацисты начали особенно свирепствовать. Тогда резко участилось количество карательных операций против активно действовавших партизан и грабежей местного населения. Людей загоняли в сараи и сжигали заживо. Тех, кому удавалось оттуда выбраться, безжалостно расстреливали…
И в этом ряду трагических событий история Хатыни — один из символов кровавого нацистского геноцида на белорусской земле. Длительное время считалось, что эту деревню вместе с жителями уничтожили исключительно нацистские головорезы из батальона СС особого назначения под командованием печально «знаменитого» садиста-«охотника» Оскара Дирлевангера. Лишь в семидесятые годы ХХ века гродненские и минские чекисты смогли окончательно установить истину и поставить точку в этом факте геноцида белорусского народа…
Тогда-то и выяснилось, что исполнителями преступного приказа, касавшегося Хатыни, как и многих других белорусских деревень, являлись находившиеся на службе у германских нацистов украинские, русские, белорусские, литовские, латышские и иных «мастей» полицаи и наемники-предатели, в тяжкий для Родины час изменившие присяге и ставшие предателями народа своего под сенью черной нацистской свастики в красно-бело-красном «обрамлении» государственной символики III рейха.
А начиналось все с типичного по своему цинизму и человеконенавистничеству нацистского приказа, определявшего основную суть «работы» карателей – убивать как можно больше «славянских недочеловеков». Документ этот недвусмысленно гласил:
«Начальник охранной полиции и СД Белоруссии
Город Минск 2 марта 1943 г. Оперативный штаб.
ПРИКАЗ
О проведении операции под названием “Дирлевангер”
В районе Логойска, а также в районах между Логойском и Смолевичами располагаются большие и малые партизанские отряды, которые находятся частично в лесах, частично в прилегающих деревнях. Эти отряды ведут активную деятельность по проведению взрывов на железной дороге восточнее Минска, а также организуют налеты на шоссейные дороги.
Для борьбы и уничтожения банд в Логойск направляется батальон Дирлевангера.
Этому батальону придаётся команда СД под руководством гауптштурмфюрера СС Вельке.
Команда СД состоит из следующих лиц:
обершарфюрер СС Зайхёфер
-“- Земке
шарфюрер СС Рюссель
унтершарфюрер СС Конецни- в качестве шофера легковых машин для команды Вельке.
Переводчиками команды Вельке являются: Симанович, Соколовскис, Айзупе.
Далее команда Вельке получает I ручной пулемет и 4 человека из латышской добровольческой роты.
Кроме имеющейся легковой машины, команда получает еще одну легковую машину и грузовую с двумя водителями (унтерштурмфюрер Вихерт поставлен об этом в известность – дальнейшие распоряжения последуют от него).
Для осуществления связи с местными службами назначается обершарфюрер СС Галов и шофер со взводом команды радиосвязи “Пойгот”. Отправка намечена на 3 марта 1943 года на 13.00.
Гауптштурмфюрер СС Вельке в этот же день прибывает в батальон Дирлевангера в Логойске.
Вопросом обеспечения продовольствием и боеприпасами, а также командированием людей, занимается сам Вельке. Подпись: ШТРАУХ оберштурмбанфюрер СС»…
Из протокола допроса свидетеля О.Ф. Кнапа из поселка Кучино Пермской области РСФСР от 31 мая 1986 года: «На шоссе Плещеницы — Логойск в районе деревни Большая Губа они (немцы) были обстреляны из засады партизанами, в результате чего Вельке, немец-пулеметчик Шнайдер и трое полицейских-украинцев были убиты… 2-й взвод 1-й роты и 3-я рота были подняты по тревоге вместе с присоединившимися к ним жандармами и полицейскими местного гарнизона».
С той трагической поры пролетела целая вечность. И ныне, неспешно прогуливаясь по проспекту Независимости в Минске, невозможно себе представить, что в годы нацистской оккупации все пространство перед зданием Академии наук БССР занимало немецкое военное кладбище с по-прусски ровным многошереножным строем стандартных могильных крестов. Здесь временно и «упокоился» ликвидированный партизанами отряда «Мститель» (бригада «Дяди Васи») на перекрестке дорог Плещеницы — Логойск — Козыри — Хатынь чемпион Берлинской олимпиады 1936 года в соревнованиях по толканию ядра, любимец фюрера III рейха, хауптштурмфюрер СС Ганс Вельке, шеф-командир 1-й роты. Она входила, согласно вышеприведенному приказу, в состав батальона Дирлевангера, принимавшего наряду с 118 украинским карательным полицейским батальоном участие в зверском уничтожении белорусской деревни Хатынь…
Изначально 118-й полицейский батальон был сформирован под Киевом осенью 1942 года. Его основу составил 115-й батальон, но он также был дополнен советскими военнопленными, в большинстве своем украинцами, и бывшими служащими Буковинского куреня (немало успевшего позверствовать на Украине военизированного батальона Организации украинских националистов – ОУН). Формально батальоном командовал майор Эрих Кёрнер (так и не разысканный после войны), но фактическое, оперативное руководство осуществлялось поляком, бывшим петлюровцем Константином Смовским. Начальником штаба батальона являлся бывший старший лейтенант Красной армии, попавший в плен и перешедший на службу к оккупантам украинский «хлопець» Григорий Васюра.
Розыском уцелевших после войны государственных преступников в УКГБ КГБ БССР по Гродненской области занимался подполковник И.Ф. Мишин. Скрупулезно изучая специальный фонд Белорусского государственного архива, он обнаружил трофейные документы о проведении карательных операций полицейскими батальонами. Его внимание привлек дотоле не «засветившийся» 118-й охранный полицейский батальон, который в 1942-1944 гг., как выяснилось, совершал свои кровавые акции в Гродненской, Минской и Витебской областях, и совместно с эсэсовцами батальона Дирлевангера был непосредственно причастен к уничтожению жителей белорусской деревни Хатынь.
В 1968-1972 гг. для розыска карателей и сбора доказательств об их личной причастности к убийствам Мишин выезжал в Москву, Львов, Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Винницу, Куйбышев, кропотливо изучал документы из архивов Бреста, Омска и Ростова, производил многочисленные опросы бывших полицейских батальона, уже привлеченных к уголовной ответственности, а также жителей населенных пунктов, где подразделения батальона совершали свои злодеяния.
Отметим, что 118-й полицейский батальон осенью 1942 года вел бои с партизанами в Черниговской и Сумской областях Украины, а затем был передислоцирован в Белоруссию. Размещался он в Минске, в Плещеницах, а в 1944 году – в Лиде (там был его штаб), Ивье (1-я рота), Василишках (2-я рота) и Щучине (3-я рота). Немецкие офицеры возглавляли батальон, роты и взводы, их помощники были из бывших офицеров дореволюционной русской армии и изменников Родины, служивших в начале войны в Красной Армии и попавших в плен. Летом 1944 года батальон, переименованный в 63-й, бежал на запад, был включен в 30-ю дивизию СС и участвовал в боях против французских партизан.
В 1972 году была образована оперативно-следственная группа в составе И.Ф. Мишина, а также следователей УКГБ по Гродненской области Ф.Ф. Дроздова и Е.Н. Далидовича. А в феврале 1973 года возбуждено уголовное дело, по которому к уголовной ответственности привлекались пять отщепенцев, сумевших скрыть при фильтрации свою карательную деятельность, и ранее не судимых. 1 апреля в Донецке был арестован Григорий Лакуста, а позже – Кнап, Курка, Лозинский и Сахно. В начале 1974 года судил их Гродненский областной суд: почти месяц длилось судебное заседание – допрашивались около тридцати свидетелей, осматривались вещественные доказательства и документы, проводились экспертизы. В ходе судебного заседания было неопровержимо доказано, что именно подсудимые сжигали и расстреливали жителей Хатыни и повинны в гибели сотен других граждан.
Бандеровец Сахно, перебежавший, в конце концов, на сторону Красной Армии, был приговорен к 12 годам лишения свободы. Остальные — к расстрелу. Президиум Верховного Совета БССР заменил высшую меру наказания Кнапу, Курке и Лозинскому на 15 лет лишения свободы, поскольку целесообразно было сохранить свидетелей для изобличения карателей более крупного масштаба. Ходатайство Лакусты о помиловании было отклонено (немало крови он пролил), и приговор привели в исполнение. Ибо Лакуста, являвшийся помощником командира взвода, отличался особой жестокостью как в Хатыни, так и в других кровавых акциях. 27 мая 1943 года при его активном участии были расстреляны и сожжены 78 жителей деревни Осовцы Докшицкого района, летом 1943 году уничтожены 50 евреев.
В октябре 1974 года сотрудниками УКГБ по Гродненской области был арестован и привлечен к уголовной ответственности бывший заместитель командира 1-й роты 118-го полицейского батальона Мелешко. Как выяснилось, в сентябре 1941 года лейтенант Мелешко оказался в плену. В 1942 году он изменил Родине и, окончив спецшколу в Германии, добровольно поступил в этот батальон. В 1943-1944 гг. Мелешко с подчиненными ему полицейскими принимал активное участие в карательных операциях против партизан и мирных граждан в Белоруссии. Лично расстреливал и сжигал людей, в том числе и в Хатыни, принуждая к этому своих подчиненных. За «ревностную» службу у оккупантов был награжден двумя медалями. 22 мая 1975 года военным трибуналом Мелешко осужден к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение.
С апреля по декабрь 1986 года следственным отделением УКГБ по Гродненской области расследовалось уголовное дело в отношении Григория Васюры, который в 1943-1944 гг. являлся начальником штаба 118-го полицейского батальона. Как было установлено, старший лейтенант Васюра летом 1941 года попал в плен, а затем добровольно перешел на службу к нацистам и окончил школу пропагандистов в Германии (местечко Вустрау). Он принимал непосредственное и активное участие в организации и руководстве карательными акциями. 22 марта 1943 года полицейские во главе с Васюрой расстреляли 27 жителей деревни Козыри Логойского района, а затем зверствовали в Хатыни. Васюра приказывал сгонять жителей в амбар, заталкивал их туда, а когда обезумевшие люди пытались спастись, приказывал стрелять по ним и сам их расстреливал. За свое «рвение» он был награжден двумя немецкими медалями.
Из протокола допроса Иосифа Каминского от 31 января 1961 года о сожжении деревни Хатынь Логойского района: «…Партизаны после часового примерно боя 22 марта 1943 г. отступили, а солдаты немецких войск стали собирать подводы и грузить на них имущество. Из числа жителей дер. Хатынь они взяли в подводчики только одного Рудак Стефана Алексеевича…
Остальных жителей начали сгонять в сарай, расположенный в метрах 35 — 50 от моего дома, то есть мой сарай. Я проживал по правой стороне и в середине деревни Хатынь, если ехать из дер. Слаговище со стороны г.п. Логойска. А мой сарай, куда сгоняли каратели людей, расположен ближе к улице. Ко мне в дом сначала зашло 6 карателей, разговаривавших на украинском и русском языках. Одеты они были — трое в немецкой форме, а остальные, вернее, другие три карателя в каких–то шинелях серого цвета, как будто русских шинелях (имеется в виду, очевидно, красноармейская форма). Все они были вооружены винтовками. Дома тогда были я, моя жена Аделия и четверо детей в возрасте от 12 до 18 лет. Я стал на колени, они у меня спросили, сколько было партизан. Когда я ответил, что было у меня шесть человек, а кто они такие не знаю, вернее, или партизаны, или другие — я так выразился, спросили затем, есть ли лошадь, и предложили ее запрячь.
Как только я вышел из дома, один из карателей, одетый в шинель серого цвета, у него на рукаве были нашиты знаки с каким–то, если не ошибаюсь, коричневым оттенком, высокого он роста, плотного телосложения, полный в лице, разговаривал грубым голосом, ударил меня прикладом винтовки в плечо, назвал бандитом и сказал быстрее запрягать лошадь. Лошадь стояла у моего брата Каминского Ивана Иосифовича, который проживал напротив моего дома через улицу. Зайдя туда во двор, я увидел, что мой брат Иван уже лежал на пороге своего дома убитый. Видимо, он был убит еще во время боя, в результате которого даже окна частично повылетали, в том числе в моем доме. Лошадь я запряг, и ее взяли каратели, а меня и сына моего брата Владислава два карателя погнали в мой сарай. Когда я пришел в сарай, то там уже были человек 10 граждан, в том числе моя семья. Я еще спросил, почему они неодетые, на что моя жена Аделия и дочь Ядвига ответили, что их каратели раздели. Людей продолжали сгонять в этот сарай, и он через непродолжительное время был совершенно заполнен, что даже нельзя поднять рук. В сарай согнали человек сто моих односельчан. Когда открывали и загоняли людей, было видно, что многие дома уже горели. Я понял, что нас будут расстреливать, и сказал находившимся вместе со мной в сарае жителям: «Молитесь богу, потому, что здесь умрут все». В сарай были согнаны мирные жители, среди них много малолетних и даже грудного возраста детей, а остальные — в основном женщины, старики. Обреченные на смерть люди, в том числе я и члены моей семьи, сильно плакали, кричали.
Открыв двери сарая, каратели стали расстреливать из пулеметов, автоматов и другого оружия граждан, но стрельбы почти не было слышно из-за сильного крика (воя) людей. Я со своим 15-летним сыном Адамом оказался около стены, убитые граждане падали на меня, еще живые люди метались в общей толпе, словно волны, лилась кровь из раненых и убитых. Обвалилась горевшая крыша, страшный, дикий вой людей еще усилился. Под ней горевшие живьем люди так вопили и ворочались, что эта крыша прямо-таки кружилась. Мне удалось из-под трупов и горевших людей выбраться и доползти до дверей. Тут же каратель, стоявший у дверей сарая, из автомата выстрелил по мне, в результате я оказался раненым в левое плечо; пули как будто обожгли меня, поцарапав в нескольких местах тело в области спины и порвав одежду. Мой сын Адам, до этого обгоревший, каким-то образом выскочил из сарая, но в метрах 10 от сарая после выстрелов упал. Я, будучи раненым, чтобы не стрелял больше по мне каратель, лежал без движения, прикинувшись мертвым, но часть горевшей крыши упала мне на ноги, и у меня загорелась одежда. Я после этого стал выползать из сарая, поднял немного голову, увидел, что карателей у дверей уже нет. Возле сарая лежало много убитых и обгоревших людей»…
Спустя годы, скрывая свое прошлое, Васюра выдавал себя за ветерана Великой Отечественной войны: его часто приглашали в гости пионеры, он числился почетным курсантом в Киевском училище связи. Даже был награжден медалью «Ветеран труда». Карателя, кстати, подвело его тщеславие, когда он обнаглел настолько, что захотел получить к 40-летию Победы орден Отечественной войны 2-й степени. Тут-то капкан и захлопнулся.
Судебный вердикт для него был ясен. 26 декабря 1986 года Военным трибуналом КБВО Васюра был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор приведен в исполнение. Характерно, что тогдашнее руководство Украинской ССР во главе с В. Щербицким просило не предавать огласке этот вопиющий факт «во имя дальнейшего укрепления интернационализма и дружбы советских народов», что и было тогда учтено.
Многие активные каратели из числа бывших граждан СССР, лично расстреливавшие советских граждан, после войны комфортно обосновались в весьма гостеприимной Западной Германии, Франции, Великобритании, США, Канаде, Австралии. Материалы на них выделялись в отдельное производство и направлялись в Москву. МИД СССР обращался к властям этих стран с требованием о выдаче преступников, но положительное решение ни по одному факту ими принято не было.
Следователи Евгений Николаевич Далидович и Федор Фадеевич Дроздов прекрасно помнили все мельчайшие подробности этого дела. Говоря о том, почему же расследованием занялись только через тридцать лет после трагедии, они не без горечи отмечали, что по прошествии всего 25 лет после Великой Победы над нацистской Германией на Генеральной ассамблее ООН представитель бундестага ФРГ выступил с обращением, требуя прекратить преследования нацистских преступников «ввиду истечения срока давности по их преступлениям против человечности».
«Наш земляк Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел СССР, твердо заявил тогда, что фашистским злодеяниям нет, и никогда не будет прощения», – рассказывал Евгений Николаевич Далидович.
«Было решено: всем европейским государствам подготовить официальные документы, подтверждавшие факты злодеяний нацистских преступников верховного командующего состава. И советское правительство поручило прокуратуре и КГБ заняться выявлением конкретных фактов массового уничтожения мирного населения. Мы засели в архивах за изучением трофейных документов, учетов фильтрационных пунктов.
Моя судьба так сложилась, что начинал я свою профессиональную деятельность в Плещеницах, в прокуратуре. Мне часто приходили запросы: установить, был ли такой-то человек в партизанах. Занимаясь этим, я столкнулся с фактом: нет информации о том, кто принимал участие в расправах против деревень Чмелевичи, Козыри, Хатынь, Осовы. Потом меня перевели в УКГБ в Могилев, там я работал над расследованием преступлений, совершенных эсесовским батальоном Дирлевангера. В марте 1970-го получил назначение в Гродно, здесь мне поручили новое дело. Центральный особый архив СССР по упоминаниям в трофейных документах вычислил существование 118-го полицейского батальона. Поскольку это формирование отступало через нашу область, гродненским чекистам и поручили расследовать его деятельность. Полтора года мы с коллегами просидели в архивах в Минске и Киеве пока смогли найти достаточно фактов для предъявления обвинения преступникам-полицаям.
Спокойно им не жилось. Чувствовали они, что придут за ними когда-то представители компетентных органов. Хорошо помню, как мы приехали в Донецк арестовывать Григория Лакусту», ‑ вспоминал Ф.Ф. Дроздов.
«Мы вызвали его под благовидным предлогом. Немного поговорив, я спросил его, не бывал ли он в Белоруссии. Он оторопел. Спрашиваю его: «Что вы там совершили?» ‑ «Я вас столько ждал», ‑ выдохнул Лакуста. Он действительно жил в страхе, долго не женился, все ожидал, что всплывут его преступления. Потом все же семью завел, но ни дочь, ни жена не догадывались о прошлом главы семейства. Только потом жена вспоминала, что когда по телевизору показывали передачи или фильмы про преступления фашистов и полицаев, Григорий белел и на три часа выходил из дому. Ко времени ареста Лакусты его дочь была уже четверокурсницей и секретарем комсомольской организации Донецкого университета. В первый миг после такой ошеломляющей новости – ее отец принимал участие в сожжении Хатыни – она хотела покончить жизнь самоубийством. Мы ее буквально вытянули из окна. Потом даже писали в университет просьбу, чтобы ее не отчисляли, но ее все же исключили.
«Не знаю, что двигало Лакустой, то ли раскаяние, то ли желание выслужиться, чтобы смягчить наказание, но следствию он очень помогал и не увиливал. Имея превосходную память, Григорий Лакуста помог нам установить точные детали многих эпизодов. Чего не скажешь о Григории Васюре. Исключительно надменный, наглый, он изворачивался, как мог, говорил, что бывшие подельники его оговаривают в отместку за то, что он якобы не позволял им тогда мародерствовать. Этот человек у всех следователей вызывал отвращение. Он так цеплялся за свою никчемную жизнь: подал на обжалование приговора. Но Военная коллегия Верховного суда СССР оставила в силе приговор к высшей мере наказания. В бессильной злобе Васюра тогда выкрикнул: «Да, это я сжег вашу Хатынь!»…
В результате работы, проделанной И.Ф. Мишиным и следователями УКГБ по Гродненской области Н.Ф. Фоминым, Е.А. Козловским, Ф.Ф. Дроздовым, Е.Н. Далидовичем, В.Ф. Макарчиковым и Л.А. Кошуром, состоялись три судебных процесса над семью наиболее активными карателями, участвовавшими в уничтожении деревни Хатынь, партизан и жителей других населенных пунктов на территории Минской, Гродненской и Могилевской областей. Каждый из этих преступников понес заслуженное наказание. И в очередной раз был претворен в жизнь памятный с давних времен девиз возмездия: «Никто не забыт и ничто не забыто!»…
Да, более шестисот так и не возродившихся, полностью сожженных карателями Хатыней, осталось после варварства нацистских «культуртрегеров» на политой кровью земле Беларуси. Более трети своих сыновей и дочерей она потеряла. Но пламя партизанской войны продолжало неуклонно разгораться. Пока, наконец, не прозвучало на земле белорусской заветное и выстраданное: «Наше дело правое. Мы победили!».